Биографии книг
Куликово поле (2005)
Вдохновенное соавторство, невероятные искушения
и начало конца работы в Издательстве Патриархии
и начало конца работы в Издательстве Патриархии
В ту пору я работала заведующей отделом детской литературы в Издательстве Московской Патриархии.
В сентябре 2005 года исполнялось 625 лет со времени Куликовской битвы — дата наполовину юбилейная, используемая для разных памятных мероприятий. Было решено создать детскую книгу о Куликовской битве. А поскольку мой дорогой друг, писатель Александр Степанович Старостин был автором рассказа о Куликовской битве, к тому времени уже вошедшего в школьную «Родную речь», мы с ним с жаром взялись за осуществление замысла.
В сентябре 2005 года исполнялось 625 лет со времени Куликовской битвы — дата наполовину юбилейная, используемая для разных памятных мероприятий. Было решено создать детскую книгу о Куликовской битве. А поскольку мой дорогой друг, писатель Александр Степанович Старостин был автором рассказа о Куликовской битве, к тому времени уже вошедшего в школьную «Родную речь», мы с ним с жаром взялись за осуществление замысла.
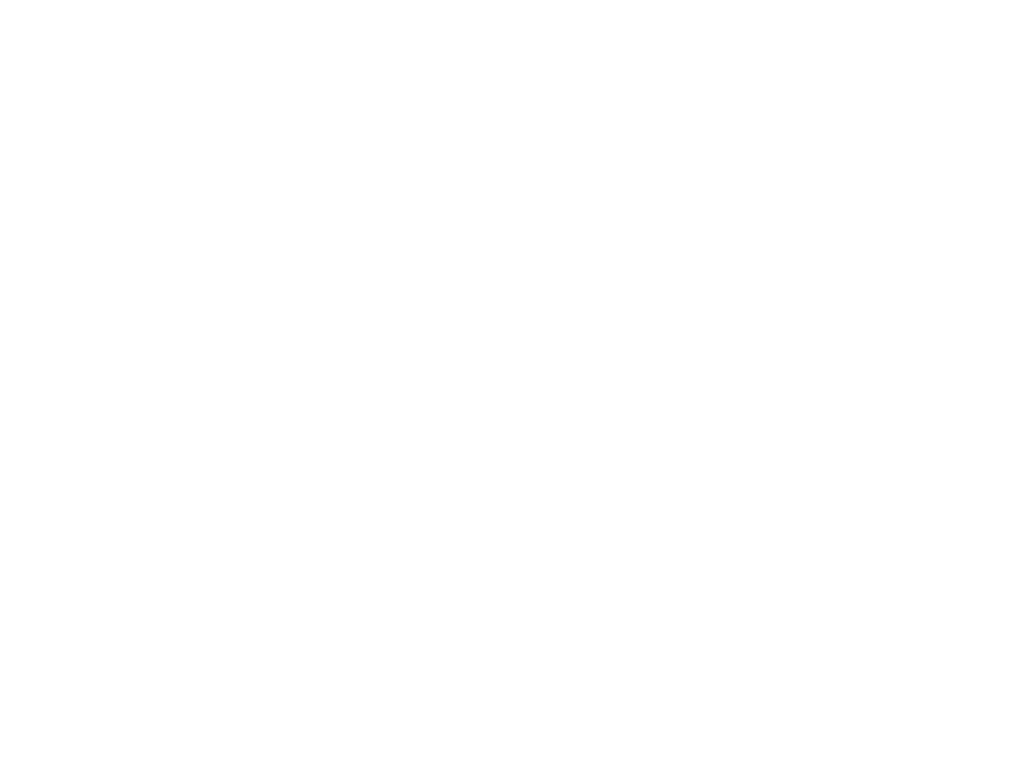
Это авторы уже над готовой книгой
Вскоре нам стало ясно, что пишем мы повесть, и не «детскую». Когда Александр Степанович
к 600-летнему юбилею битвы, то есть еще в брежневскую эпоху, предложил и проталкивал тему в журнал «Мурзилка», ему приходилось оставлять за кадром всё духовное содержание эпохи. Он вспоминал, как ответственный редактор скрипучим голосом сказал: «А Сергия — убрать!» Сергия удалось отстоять, но, конечно, как бледную тень. А теперь духовность была для нас не запретной темой, а центральной!
Ключом ко всему повествованию стало для нас «Сказание о Мамаевом побоище» — шедевр древнерусской литературы, о котором многие слышали, но мало кто его читал. Это потрясающая икона события, передающая его в свете Царствия Небесного, освещающая и освящающая все подробности. Нам оставалось только идти вслед за «Сказанием…» — перекладывая увиденное и познанное благодаря ему на язык нашей культуры.
Это был наш первый опыт полного соавторства. Сперва поделили главы на «тебе войнушка, мне молитва». Но, конечно, это было очень условно: всё заново переживалось и осмыслялось вместе, выстраивалось, проговаривалось, прописывалось фраза за фразой. Без преувеличения сказать: в эту повесть мы оба вложили всю душу.
Мы не укладывались в сроки — а книгу надо было выпустить к дате. Завершающая работа шла едва ли не сутками напролёт. Наконец к утру самого-самого распоследнего срока была поставлена последняя точка.
к 600-летнему юбилею битвы, то есть еще в брежневскую эпоху, предложил и проталкивал тему в журнал «Мурзилка», ему приходилось оставлять за кадром всё духовное содержание эпохи. Он вспоминал, как ответственный редактор скрипучим голосом сказал: «А Сергия — убрать!» Сергия удалось отстоять, но, конечно, как бледную тень. А теперь духовность была для нас не запретной темой, а центральной!
Ключом ко всему повествованию стало для нас «Сказание о Мамаевом побоище» — шедевр древнерусской литературы, о котором многие слышали, но мало кто его читал. Это потрясающая икона события, передающая его в свете Царствия Небесного, освещающая и освящающая все подробности. Нам оставалось только идти вслед за «Сказанием…» — перекладывая увиденное и познанное благодаря ему на язык нашей культуры.
Это был наш первый опыт полного соавторства. Сперва поделили главы на «тебе войнушка, мне молитва». Но, конечно, это было очень условно: всё заново переживалось и осмыслялось вместе, выстраивалось, проговаривалось, прописывалось фраза за фразой. Без преувеличения сказать: в эту повесть мы оба вложили всю душу.
Мы не укладывались в сроки — а книгу надо было выпустить к дате. Завершающая работа шла едва ли не сутками напролёт. Наконец к утру самого-самого распоследнего срока была поставлена последняя точка.
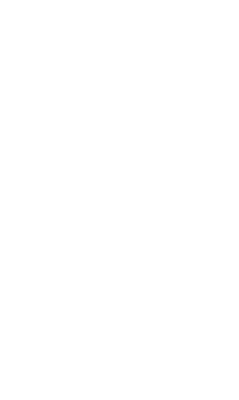
Людмила Павловна Медведева
А далее в том же авральном режиме последовало редактирование текста. Редактором была Людмила Павловна Медведева, тогда возглавлявшая отдел богослужебных книг, моя ближайшая подруга, и она в то время болела. Ее труд над нашей книгой был прямым подвигом; в подвиг она вовлекла и нас. За сутки или двое внимательно прочитав всю повесть, она с утра, едва началась работа издательства, стала обсуждать с нами текст, не пропуская ни фразы, ни слова. Множество точнейших замечаний, предложений, поправок предложила она. Закончился рабочий день в издательстве, уже нервничали вахтеры, и тогда мы втроем поехали к Людмиле Павловне домой и там всю ночь обсуждали текст, не отрываясь больше чем на 10-15 минут (на еду). Закончили утром, полуживые. По моим подсчетам, вахта длилась непрерывно 25 часов! Но главное, что каждое слово повести было прополоскано во рту, оценено со всех сторон. Это была идеальная редактура… и зверски трудная.
Два-три дня спустя Людмила Павловна была госпитализирована в тяжелом состоянии и полностью выключилась из процесса.
Два-три дня спустя Людмила Павловна была госпитализирована в тяжелом состоянии и полностью выключилась из процесса.
А сложный процесс создания книги продолжался: ее превращали в произведение книжного искусства. Поло́сные (то есть на целую страницу) иллюстрации были взяты из Лицевого летописного свода (конец XVI века), включающего «Сказание о Мамаевом побоище» и без малого двести подробнейших миниатюр к нему. Подобрали стильный шрифт для подписей под иллюстрациями — фрагментов «Сказания». Изящные буквицы были заимствованы из так называемого Евангелия Федора Кошки — памятника начала XV века, их воспроизвел художник Владислав Павлович Низов. Иллюстрированные карты местности и схемы сражений (две из них помещены на фо́рзацах книги, две внутри на разворотах) отрисовали отец и сын Кулемины. На контртитул — страницу перед титульным листом — мы поместили образ Спаса Нерукотворного, средник знамени князя Дмитрия Донского. В это же время дорабатывалась традиционная для моих книг вторая «познавательная» часть, и первый материал в ней был именно об этом Спасовом образе, поразительную загадку которого мы обнаружили в процессе создания книги.
В общем, шла вдохновенная и согласованная творческая работа.
Ниже помещены страницы книги — образцы буквиц и текста, карт, а также оглавление
(всё кликабельно)
В общем, шла вдохновенная и согласованная творческая работа.
Ниже помещены страницы книги — образцы буквиц и текста, карт, а также оглавление
(всё кликабельно)
А потом посыпались беды.
Я много лет работала в православном книжном деле и много раз слышала, что по-настоящему духовное творчество всегда оборачивается жуткими искушениями, но, за единственным исключением, мои труды складывались относительно гладко и, сочувственно кивая на рассказы о том, какие скорби сопровождали православных тружеников в их трудах, я удивлялась, что мне это практически незнакомо.
А тут как гром грянул — именно над самой любимой, вылюбленной, намоленной книгой.
Началось-то, конечно, с тяжелой болезни Людмилы Павловны, это была первая беда (к счастью, продолжительное лечение было успешным).
Потом — страшнее. Жизнерадостный и вдохновенный Александр Сергеевич Кулемин, вместе с сыном рисовавший наши карты, пришел с почерневшим лицом: сын его Сергей трагически погиб (утонул). Александр Сергеевич попросил в выходных данных указать только имя сына, оно обведено черной рамкой.
А потом пошло и вовсе непонятное: книгу стали упорно «редактировать». Наверное, изначальная причина в том, что сомневались в качестве совершённого уже сильно болевшей Людмилой Павловной труда (это мы-то, авторы, знали, что он был идеален!).
Так или иначе, книгу стали «править», причем вскоре этот процесс пошел совершенно вне моего ведома и в него втянулись практически все, через кого она проходила — о чем я не подозревала. Результат я увидела, только когда красавица-книга вышла из типографии. Текст был сильно искажен, частично сокращен, причем «правка» коснулась преимущественно молитвенных и патриотических мотивов. Образчики «улучшений» я приведу на отдельной странице. В шесть раз была сокращена глава «В ло́жнице», к тому же переименованная в «Молитву князя Дмитрия» — едва ли не ключевая глава повести, труднейшая для меня как автора, буквально вымоленная, ибо иначе невозможно было бы в повествовании передать молитвенное состояние человека, властителя, стоящего перед роковым выбором, мятущегося и находящего наконец опору и ответ во Христе.
И всё это было для меня как гром среди ясного неба.
Для читателя, не знавшего «исходника» и, главное, не выстрадавшего его так, как выстрадали мы, два автора, и наша редактор Людмила, — наверное, всё хорошо, а книга действительно была так красива! Но для меня в тот миг, в тот час, когда я увидела, что стало с нашим детищем, это была настоящая трагедия. В эти минуты я поняла, что значит быть изнасилованной. К счастью, у меня тогда был отдельный кабинет. Я заперлась там, легла на пол, на ковёр, и в этот ковёр выла и рыдала, никем не слышимая. (Никогда ни до, ни после ничего подобного я не вытворяла.)
Позже я от души прорыдалась у своего сердечного друга и соавтора Александра, а он уже не столько из авторского самолюбия и боли за книгу, сколько из-за переживания за меня составил какой-то грозный ультиматум главному редактору Издательства, но я воспротивилась любым действиям в этом направлении, и бумага не пошла дальше нас двоих. Никто в издательстве так и не узнал, что для меня (и для книги) значила эта «правка». Я только поняла, что работать в издательстве, верным сотрудником которого была несколько лет, после случившегося больше не смогу. Увы, и уйти я сразу не смогла, а предприняла дурацкую полумеру: попросила перевести меня на треть ставки (совершенно ничтожные деньги), при этом нагрузка моя сократилась хорошо если вполовину, а руководство, так и не узнавшее мотивов, стало относиться ко мне как к человеку ненадежному. Чтобы покинуть Издательство, мне надо было второй раз наступить на те же грабли, что и произошло впоследствии (и тогда о причинах моего увольнения тоже никто не узнал).
Я много лет работала в православном книжном деле и много раз слышала, что по-настоящему духовное творчество всегда оборачивается жуткими искушениями, но, за единственным исключением, мои труды складывались относительно гладко и, сочувственно кивая на рассказы о том, какие скорби сопровождали православных тружеников в их трудах, я удивлялась, что мне это практически незнакомо.
А тут как гром грянул — именно над самой любимой, вылюбленной, намоленной книгой.
Началось-то, конечно, с тяжелой болезни Людмилы Павловны, это была первая беда (к счастью, продолжительное лечение было успешным).
Потом — страшнее. Жизнерадостный и вдохновенный Александр Сергеевич Кулемин, вместе с сыном рисовавший наши карты, пришел с почерневшим лицом: сын его Сергей трагически погиб (утонул). Александр Сергеевич попросил в выходных данных указать только имя сына, оно обведено черной рамкой.
А потом пошло и вовсе непонятное: книгу стали упорно «редактировать». Наверное, изначальная причина в том, что сомневались в качестве совершённого уже сильно болевшей Людмилой Павловной труда (это мы-то, авторы, знали, что он был идеален!).
Так или иначе, книгу стали «править», причем вскоре этот процесс пошел совершенно вне моего ведома и в него втянулись практически все, через кого она проходила — о чем я не подозревала. Результат я увидела, только когда красавица-книга вышла из типографии. Текст был сильно искажен, частично сокращен, причем «правка» коснулась преимущественно молитвенных и патриотических мотивов. Образчики «улучшений» я приведу на отдельной странице. В шесть раз была сокращена глава «В ло́жнице», к тому же переименованная в «Молитву князя Дмитрия» — едва ли не ключевая глава повести, труднейшая для меня как автора, буквально вымоленная, ибо иначе невозможно было бы в повествовании передать молитвенное состояние человека, властителя, стоящего перед роковым выбором, мятущегося и находящего наконец опору и ответ во Христе.
И всё это было для меня как гром среди ясного неба.
Для читателя, не знавшего «исходника» и, главное, не выстрадавшего его так, как выстрадали мы, два автора, и наша редактор Людмила, — наверное, всё хорошо, а книга действительно была так красива! Но для меня в тот миг, в тот час, когда я увидела, что стало с нашим детищем, это была настоящая трагедия. В эти минуты я поняла, что значит быть изнасилованной. К счастью, у меня тогда был отдельный кабинет. Я заперлась там, легла на пол, на ковёр, и в этот ковёр выла и рыдала, никем не слышимая. (Никогда ни до, ни после ничего подобного я не вытворяла.)
Позже я от души прорыдалась у своего сердечного друга и соавтора Александра, а он уже не столько из авторского самолюбия и боли за книгу, сколько из-за переживания за меня составил какой-то грозный ультиматум главному редактору Издательства, но я воспротивилась любым действиям в этом направлении, и бумага не пошла дальше нас двоих. Никто в издательстве так и не узнал, что для меня (и для книги) значила эта «правка». Я только поняла, что работать в издательстве, верным сотрудником которого была несколько лет, после случившегося больше не смогу. Увы, и уйти я сразу не смогла, а предприняла дурацкую полумеру: попросила перевести меня на треть ставки (совершенно ничтожные деньги), при этом нагрузка моя сократилась хорошо если вполовину, а руководство, так и не узнавшее мотивов, стало относиться ко мне как к человеку ненадежному. Чтобы покинуть Издательство, мне надо было второй раз наступить на те же грабли, что и произошло впоследствии (и тогда о причинах моего увольнения тоже никто не узнал).
На поле Куликовом 21 сентября 2005. Спутник случайный.
21 сентября 2005 г. у мест сражений.